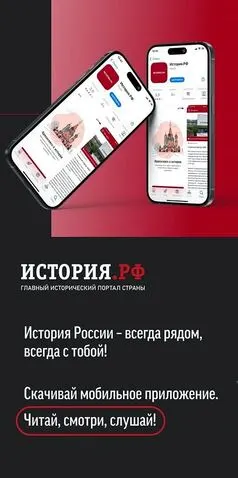Сердечное согласие как путь к вселенскому побоищу
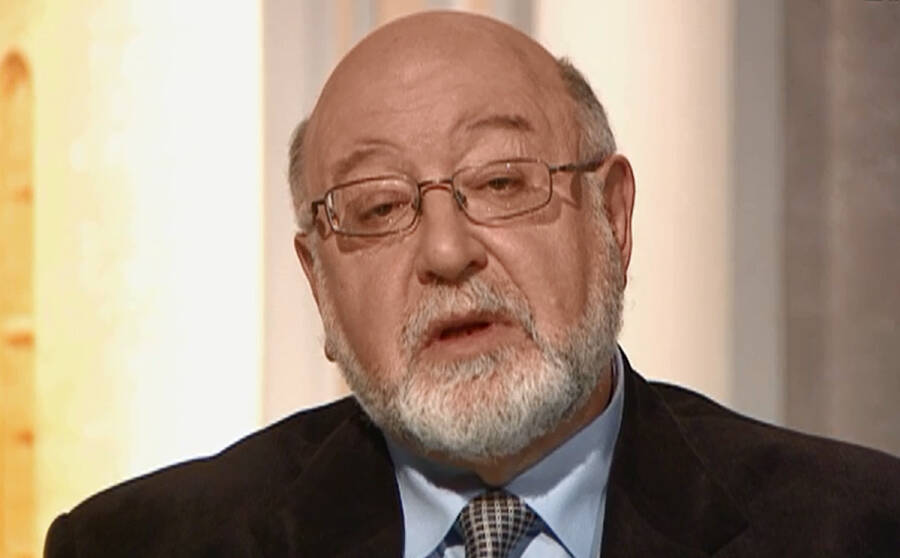
Текст выступления
Создание двух противоборствующих в Первой мировой войне союзов проходило не просто. Были колеблющиеся (не уверенные, на какую лошадь поставить). Были перебежчики, которым в последний момент сделали более выгодное предложение. В большей степени это касалось, разумеется, второстепенных участников конфликта, однако, и главные действующие лица пришли к окончательному согласию далеко не сразу.
Если в Тройственном союзе дела обстояли все же проще — здесь бесспорным вожаком была Германия, а Австро-Венгрия уже давно шла в ее фарватере, поэтому этим двоим было необходимо лишь удерживать в зоне своего влияния Италию, то с формированием Антанты все обстояло гораздо сложнее. Об этом говорят даже сроки: если Тройственный союз оформился задолго до начала войны — еще в 1882 году, то французы, англичане и русские пришли к своему «сердечному согласию» — Entente cordiale – значительно позже. Блок строился постепенно, из «кирпичиков». В 1893 году заключен оборонительный союз России с Францией. В 1904 году подписано англо-французское соглашение. И лишь в 1907 году с помощью французов нашли, наконец, общий язык Петербург и Лондон.
Впрочем, можно копнуть и глубже. Исторический поворот от союза с Берлином к союзу с Парижем, а, значит, и к будущей Антанте, произошел при Александр III. А предсказал подобный ход событий еще раньше последний канцлер российской империи Горчаков: «Прусская монархия образовалась путем завоеваний и стремления к расширению границ. Государства удерживаются в силе теми же средствами, какими вызвано их основание. Политика Пруссии честолюбива и беспокойна… Мы не имеем поводов для противодействия ее росту, пока она не нарушает наших прямых интересов». К моменту воцарения Александра III уже всем стало очевидно, что Германия российские интересы нарушает, причем самым вызывающим образом. Вот российский корабль и сменил свой курс.
К огромной радости французов, прекрасно понимавших, что в одиночку справиться с Германией ей не под силу. Именно Франция и стала «паровозом» при создании Антанты. Первая ставка была сделана на Россию. Тогда в Европе многие считали, что перевес в людских ресурсах будет в будущей войне решающим. А потому и Париж, и Берлин активно боролись между собой за, как тогда говорили, «русский каток», который, как предполагали, способен прокатиться по европейской территории, сметая на своем пути все.
Последнюю попытку перетянуть на свою сторону Россию Вильгельм предпринял в 1905 году. Когда яхта кайзера «Гогенцоллерн» тайно встретилась в балтийских водах с яхтой царя «Полярная звезда» около острова Бьерке, то на борту последней не оказалось, к сожалению, ни одного дипломата, способного помешать царю совершить ошибку. Некоторые историки вообще считают договор в Бьерке неким казусом, поскольку жизнь документа оказалась короткой, а сам дух договора полностью противоречил логике развития событий в тогдашней Европе. Тем не менее, игнорируя все предыдущие договоренности, Николай II — «Ники» под сильнейшим психологическим давлением со стороны своего родственника Вильгельма — «Вики» подписал с Германией договор о взаимной помощи в случае войны.
Всю грандиозность допущенной им оплошности государь понял сразу же, как только вернулся в Петербург, поэтому целых пятнадцать дней не решался никому признаться в том, что сделал. Впрочем, дело закончилось тогда лишь сильнейшей нервотрепкой во дворце и в российском МИДе. Договор в силу так и не вступил, хотя Вильгельм упорно настаивал на этом в своей переписке с Николаем. Отказ Петербурга юридически был безупречен: документ не имеет силы, поскольку не был, как полагается, контрассигнован, то есть, удостоверен подписью министра иностранных дел. Сами французы, кстати, узнали о соглашении в Бьерке лишь после войны, когда большевики обнародовали тайные царские договора. И были, хотя драка уже давно закончилась, крайне возмущены. Впрочем, это лишь курьезный эпизод, никак не повлиявший на дальнейшие события.
Обеспечив себе поддержку России, Париж на этом не остановился, тем более, что после русско-японской войны российская армия уже не выглядела непобедимой. А потому Франция начала вести работу по сближению Петербурга и Лондона. На ее удачу поражение России в 1905 году открывало двери для сближения старых оппонентов. Лондон, до этого с подозрением взиравший на царскую политику на Дальнем Востоке, наконец, успокоился.
Стремление сблизиться на фоне нарастающей германской угрозы стало, в конце концов, доминирующим в Париже, Петербурге и Лондоне, причем его уже не могли остановить даже такие инциденты, которые в былые времена могли бы послужить даже поводом для войны. Речь идет об инциденте у Доггер-банки (это отмель в Северном море) или, как его еще называют, Гулльском инциденте. В этой истории оказалась замешана русская эскадра под командованием вице-адмирала Рождественского, которая в разгар русско-японской войны направлялась на Дальний Восток. Из-за ложной тревоги — опасались нападения японцев — русские силы открыли ночью шквальный огонь по невидимому противнику, в результате чего пострадали английские рыболовецкие траулеры.
Версии тут и доныне разные: кто-то считает, что в деле действительно были замешаны японцы, кто-то предполагает, что это был немецкий миноносец, просто Германия не захотела в этом признаться, а кто-то списывает все на призрак «Летучего голландца». Неоспоримо лишь то, что в ходе беспорядочной стрельбы пострадали как английские рыбаки, так и сами русские. Повреждения получил и ставший позже знаменитым крейсер «Аврора». Впрочем, какая из версий верна не столь уж и важно. К моменту начала работы международной комиссии, расследовавшей инцидент, итоги русско-японской войны уже были известны, поэтому будущие противники Тройственного союза предпочли историю быстро замять. Это было в интересах России, это было в интересах члена международной комиссии — Франции, это было в интересах пострадавшей Британии. Антанта для всех троих была уже намного важнее.
Дополнительная информация по теме ...
Фрагмент из книги Г.П. Виллмотта «Первая мировая война»[1]:
«В безумные дни конца июля 1914 г. Все континентальные державы были готовы к мобилизации. Первой выступила Австро-Венгрия, начавшая мобилизацию 28 июля. 30-го русский царь объявил полную мобилизацию, будучи уверен в своей «Большой военной программе», где всем армиям Российской империи предписывалась 18-дневная мобилизация. Опасаясь, что русский «паровой каток» докатится до Берлина прежде, чем удастся нанести поражение Франции, немцы 1 августа начали свою тщательнейшим образом проработанную операцию, согласно которой в течение недели под ружье должно быть поставлено 3,5 млн солдат. Германская мобилизация стала сигналом для аналогичной операции во Франции, где мобилизации подлежало около 3 млн. человек. Генеральный штаб рассчитывал по крайней мере на 10% уклоняющихся, однако уклонистов оказалось немногим более 1%.
Во всех вступивших в войну странах солдат сопровождали на их пути к фронту полные энтузиазма толпы, уверенные, что их «мальчики» вернуться домой к Рождеству. Британские мужчины не подлежали обязательному призыву на военную службу, поэтому Англия выставила всего 150 тыс. человек, «ничтожно малую армию», согласно знаменитым неправильно переведенным словам кайзера. Тем не менее, в течение нескольких недель к этой армии присоединилось около 0,5 миллиона добровольных новобранцев. Каждый солдат испытывал, разумеется, и страх, и сомнения, но многие разделяли чувства, высказанные австрийским писателем Стефаном Цвейгом: «Как никогда раньше тысячи и сотни тысяч людей чувствовали то, что им следовало бы чувствовать в мирное время, — что все они тесно связаны друг с другом».
Фрагмент из книги Джона Кигана «Первая мировая война»[2]:
«Событие, послужившее формальным началом европейского политического кризиса, произошло 28 нюня 1914 года. В этот день в Сараево, центре Боснии, сербским националистом был убит наследник австрийского престола эрцгерцог Франц Фердинанд, племянник Франца Иосифа.
Эта трагедия не стала случайностью. В начале XX века в Австро-Венгрии получило развитие националистическое движение славянских народов, вдохновителем которого была Сербия, небольшое христианское государство, завоевавшее независимость в результате долгой борьбы с Оттоманской империей и стремившееся к объединению всех балканских славян. Идея такого объединения оказывала большое влияние на славянское население Австро-Венгрии. Однако эта идея у наиболее радикальных ее приверженцев породила экстремистские взгляды, в результате чего эти люди встали на путь террора. А теперь расскажем, при каких обстоятельствах был убит эрцгерцог Франц Фердинанд.
В конце июня 1914 года на территории Боснии, бывшей турецкой провинции, сначала оккупированной (в 1878 году), а затем и аннексированной (в 1908 году) Австро-Венгрией, проходили маневры австрийских войск. С 25 июня за учениями наблюдал Франц Фердинанд, являвшийся генеральным инспектором армии. 28 июня, на следующий день после завершения маневров, Франц Фердинанд отправился вместе с супругой на машине в Сараево с официальным визитом к местному губернатору.
Торжественный въезд Франца Фердинанда в боснийский город пришелся на день всесербского национального траура «Видовдан», который ежегодно отмечался сербским народом, почитавшим за долг помянуть славян, погибших в 1389 году в битве с турками. Сербские националисты, жаловавшие австрийцев не больше турок, заранее расценили появление австрийского престолонаследника в центре Боснии как сознательное оскорбление всех балканских славян.
Австрийские военные знали о таких настроениях. Франца Фердинанда предупредили, что его поездка сопряжена с риском, однако эрцгерцог, хотя, вероятно, и помнил о печальном историческом опыте — убийствах русского царя, австрийской императрицы и президента Соединенных Штатов Америки — пренебрег опасностью, посчитав ее одной из тех голословных и несерьезных угроз, которые в изобилии сыпались на правителей и политиков.
Однако на этот раз угроза не оказалась пустой: эрцгерцога ждали шесть членов террористической группы. Один из них, когда Франц Фердинанд проезжал мимо него, бросил в машину бомбу, но та отскочила в сторону и угодила в следующую машину, ранив офицера охраны. Шофер эрцгерцога рванулся вперед, увеличив скорость, однако на одном из городских перекрестков повернул не в ту сторону, а, когда затормозил, чтобы выполнить разворот, раздались револьверные выстрелы. По машине стрелял Гаврила Принцип, другой член террористической группы. На этот раз промаха не случилось: супруга эрцгерцога скончалась на месте, он сам десятью минутами позже. Принципа схватили. Арестовали и других террористов.
Следствие быстро установило, что все террористы являлись австрийскими подданными, которые успели до покушения на эрцгерцога побывать в Сербии, где получили оружие. Следователи сочли, что инициатором акции стала сербская националистическая организация «Народная защита», основанная в 1908 году и с этого времени выступавшая за присоединение Боснии к Сербии. На самом деле инициатором покушения была другая националистическая организация — «Союз смерти» — известная также и под другим, не менее зловещим названием «Черная рука». Впрочем, приведенное уточнение не столь и существенно: «Народная защита» постоянно помогала «Черной руке», а надзор за этой организацией осуществлял полковник Драгутин Димитриевич (он же Апис), руководитель сербской разведки, человек, признававший любые средства для достижения цели (в 1903 году Димитриевич принимал участие в заговоре против сербского короля Александра Обреновича, завершившемся убийством монарха и восстановлением на престоле династии Карагеоргиевичей).
Однако вернемся к арестованным террористам. 2 июля на допросе трое из них признались, что получили оружие в Сербии, а границу им помогли перейти сербские пограничники. У австрийцев появились веские основания обвинить Сербию в терроризме. В среде политиков и военных раздались голоса, призывавшие силой разрешить сербский вопрос. На их взгляд, сербы делали все для того, чтобы расшатать устои империи и добиться господствующего положения на Балканах.
Добавим от себя в качестве пояснения. После того как Сербия в 1813 году обрела национальную независимость, спустя век, в результате Балканских войн, ей удалось расширить свою территорию за счет присоединения части земель Новобазарского санджака и Македонии. Добившись значительного успеха, сербы стали все более помышлять о «Великой Сербии», объединенном государстве балканских славян. Идея такого объединения оказывала большое влияние на славянское население обширных территорий, уходивших в состав Австро-Венгрии. Притязания сербов на гегемонию на Балканах вызывали у австрийских правящих кругов желание принять решительные меры для разгрома основного очага славянского национального движения — Сербии. Австрийцы полагали, что если уступить сербам, такая уступка породит цепь других слабостей, которые приведут к распаду империи.
Причастность Сербии к террористической акции, завершившейся убийством австрийского престолонаследника, подтвержденная показаниями участников покушения, подлила масла в огонь: австрийские правящие круги пришли к мысли, что война с Сербией не только желательна, но и крайне необходима».
Фрагмент из книги Андрея Зайончковского «Первая мировая война»[3]:
СРАВНЕНИЕ ОБЕИХ СТОРОН
Сравнивая вооруженные силы первоклассных держав, столкнувшихся в 1914 г., можно прийти к следующему заключению.
1. В отношении численного состава армии и людских средств Антанта, благодаря России, находилась в более выгодном положении, чем Центральные державы. Однако медленность мобилизации и сосредоточения русской армии, а также недостаток в России железных дорог, затрудняющий переброску войск с одного театра на другой, намного умаляли, а в первое время войны и совершенно уничтожали это преимущество.
2. Развитие вооруженных сил во время войны до предела, соответствующего количеству населения, являлось вполне достижимым в Германии и Франции, менее достижимым в Австрии и оказалось не по силам для России, стесненной кадрами, запасами, наличием большой территории и слабостью рельсовой сети. Это условие было особенно невыгодно для Антанты, так как Россия представляла в ней большой удельный вес.
3. Обучение всех армий велось в одном направлении, но в лучшую сторону оно отличало французскую и в особенности германскую армии; русская армия, делавшая в этом отношении большие усовершенствования после японской войны, не успела к 1914 г. дойти до предела желательного совершенства. Австро-венгерская армия уступала в этом отношении русской.
4. Высший командный состав в общей своей массе стоял на должной высоте только в германской и французской армиях.
5. Военная мысль в выкристаллизовавшейся форме вылилась во французскую и германскую военные доктрины.
6. Быстрота мобилизации и развертывания находилась на стороне Центральных держав.
7. В отношении снабжения артиллерией, в особенности тяжелой, в выгодную сторону выделялись германская и отчасти австро-венгерская армии.
8. В деле снабжения техникой русская армия далеко отставала от всех остальных; за ней следовала австро-венгерская.
9. Обе стороны начали войну с наступления, и идея дерзновенных действий стала руководящей для обеих сторон. Но в смысле подготовки к выполнению этой идеи проведение ее через всю толщу армии было достигнуто постоянным и методичным трудом только в германской армии, что и отличало ее в положительную сторону по сравнению с Антантой.
10. Германская армия выступила на войну, упоенная успехами войн австро-прусской 1866 г. и франко-прусской 1870-1871 гг.
11. Обе стороны готовились к неизбежной войне, чтобы выступить во всеоружии. Если Франция и Германия достигли этого, то большая военная программа, долженствовавшая усилить мощь русской армии, оканчивалась в 1917 г., и в этом отношении начало войны в 1914 г. было исключительно выгодно для Центральных держав. При таком приблизительном равенстве вооруженных сил враждовавших сторон и при необходимости вести войну до полного уничтожения врага трудно было рассчитывать на быстрое окончание войны, если в дело не вмешается исключительный случай молниеносного сокрушения одной из главных составных частей коалиции. В расчете на такой случай германцы, как увидим ниже, и построили свой план, но карта их была бита.
СТЕПЕНЬ ПОДГОТОВКИ СТОРОН К ВЕДЕНИЮ СОВРЕМЕННОЙ ВОЙНЫ
Но если все государства подготовляли с особым напряжением к неизбежной войне свои вооруженные силы, то нельзя того же сказать относительно подготовки их к должному питанию современной войны. Это объясняется общим неучетом характера грядущей войны в смысле: 1) ее продолжительности, так как все исходили из расчета на ее краткость, полагая, что длительной войны современные государства выдержать не могут; 2) грандиозного расхода боеприпасов и 3) громадного потребления технических средств и необходимости заготовления разных орудий техники, в особенности оружия и боеприпасов, в непредвиденно большом размере в течение самой войны.
Все государства, не исключая и Германии, столкнулись в этом отношении с печальной неожиданностью и в течение самой войны были вынуждены исправлять недочеты мирной подготовки. Франция и Англия, с их широким развитием тяжелой индустрии и со сравнительно свободным подвозом благодаря господству на море, легко справились с этим делом. Германия, окруженная врагами со всех сторон и лишенная морских сообщений, страдала от недостатка сырья, но справилась с этим делом при помощи своей твердой организации и сохранения сообщения с Малой Азией через Балканский полуостров. Но Россия, с мало развитой индустрией, с плохой администрацией, отрезанная от своих союзников, с громадным пространством своей территории при слабо развитой сети рельсовых путей, начала справляться с этим недостатком только к концу войны.
Остается отметить еще одну особенность, резко отличавшую Россию от других воюющих держав, — это бедность в рельсовых путях. Если Франция в военном отношении была вполне обеспечена богато развитой сетью железных дорог, дополняемой в большом размере автотранспортом, если Германия, столь же богатая рельсовыми путями, в последние годы перед войной строила специальные линии в соответствии с установленным ею планом войны, то Россия была обеспечена железными дорогами в размере, совершенно не соответствовавшем ведению большой войны.
Фрагмент из книги Анатолия Уткина «Первая мировая война»[4]:
ПОВОРОТ ГЕРМАНИИ ОТ РОССИИ
Из Версаля в 1870 году только что коронованный император Вильгельм I телеграфировал царю Александру II: «Пруссия никогда не забудет, что именно благодаря Вам война не приобрела большего масштаба».
Для Германии оборотиться против России, говорил Вильгельм I, будет равнозначно измене. Этот курс соответствовал германской геополитике. Германский император Вильгельм, если верить историческим источникам, до своей смерти (9 марта 1888 г.) являлся убежденным сторонником германо-русской дружбы — он завещал ее наследнику, находившемуся у его одра. Почти целый век Германия и Россия провели в состоянии взаимопонимания. Князь Бисмарк признался кайзеру Вильгельму II, что его главной внешнеполитической задачей является предотвращение союза дружественной России и не всегда дружественной Англии.
Набирающая мощь Германия все меньше нуждалась в русской дружбе. 6 февраля 1888 г. Бисмарк провозгласил в германском рейхстаге: «Мы больше не просим о любви ни Францию, ни Россию. Мы не просим ни о чьем одолжении. Мы, немцы, боимся на этой земле Господа Бога, и никого более!» Рейхстаг взорвался овацией, старый фельдмаршал Мольтке рыдал.
С окончанием эры Бисмарка перед Германией стояли четыре возможных пути. Первый — продолжить традицию великого канцлера, основанную на поддержании хороших отношений с двумя величайшими странами «моря и суши» Великобританией и Россией, стараться не пересекать их пути, а тем временем развивать бесподобную германскую науку и промышленность.
Второй путь предполагал создание великого океанского флота (что неизбежно антагонизировало Британию) и поощрение движения России в тихоокеанском направлении. При этом два европейских соседа, Германия и Россия, как бы совместно отбирали у Британии господство над обоими океанами (Германия — над Атлантическим, Россия — над Тихим).
Третий путь предполагал восстановление «Союза трех императоров», сближение германского и славянского элементов в Европе против англосаксов.
Четвертый путь — двинуться к теплым морям на турецком направлении, расширить свое влияние на Ближнем Востоке, действуя при этом по возможности совместно с Британией против России.
Кайзер Вильгельм II и его окружение в конечном счете пренебрегли первыми тремя дорогами. Первый путь, с их точки зрения, «закрепощал» динамическую мощь Германии и предполагал своего рода «отречение» от мировой политики во вступившем в фазу империализма мире. Все же первый путь в значительной мере преобладал в первые годы царствования Николая II и Вильгельма II. Второй путь сдерживал создателей мирового флота, сгруппировавшихся вокруг адмирала Тирпица. Кайзер начал его реализацию, начав в начале века строительство океанского флота и поддерживая Россию против Японии. Третий путь получал преобладание лишь спорадически (Бьерк) и не имел постоянной линии.
Возобладал искаженный вариант четвертого пути: на Балканы Германия двинулась опираясь не на Британию, а на стремящуюся укрепить германский элемент своей многоплеменной империи Вены. Наследник Бисмарка канцлер Каприви был решительным сторонником австрийского направления, именно он был «архитектором» тройственного союза Германии, Австро-Венгрии и Италии. Он не усматривал в союзе с Россией перспектив для Германии, которая хотела консолидировать Центральную Европу, держать в состоянии постоянного напряжения Францию и отвратить от европейских дел Россию.
Отказ продлить «Союз трех императоров», был, по мнению английского историка М. Бальфура, «ударом по лицу» России. Шувалов записал в дневнике: «Очень болезненное для нас решение». Победила та линия германской политики, которая основывалась на максиме, что сотрудничество между Германией и Россией, между тевтонами и славянами стало исторически неуместным.
Берлин отказался возобновить так называемый Договор о подстраховке, сохранявший дружественность России и Германии. Немалое число германских историков ставит взаимосближение соседей Германии в вину канцлеру Б. фон Бюлову, который «привязал превосходный германский фрегат к утлому судну Австро-Венгрии», главным достоинством которой была полная зависимость от Берлина. Такие историки, как Э. Бранденбург, считают Бюлова виновным в отклонении предложения английского министра колоний Дж. Чемберлена о разрешении противоречий и мире (этот отказ в конечном счете способствовал вовлечению Великобритании в орбиту франко-русского союза).
Началось провоцирование России германским сближением с Турцией и безмерной поддержкой Австрии на Балканах. Бюлова винят в предательстве идейного наследия Бисмарка, категорически отвергавшего политику силового выяснения отношений с Россией. Было ли неизбежным конечное столкновение Германии с соседями на Востоке и Западе? Многие западные историки (например, X. Сетон-Уотсон) склоняются к выводу о неотвратимости столкновения Берлина с ожесточенным после отторжения двух провинций — Эльзаса и Лотарингии — Парижем и с обеспокоенным германским самоутверждением Петербургом. Пока Германия была простым продолжением Пруссии, русско-германские интересы не сталкивались. Но ставшая европейским лидером Германия уже не была продолжением Пруссии. Влияние традиционной прусской военной касты (имевшей связи с Россией) начало уменьшаться, а влияние западных, рейнских промышленников увеличиваться. Внутригерманские процессы вели к изменению взаимоотношений прежде традиционно дружественных военных элит двух стран. «Аристократическая монархия Вильгельма I и Бисмарка могла поддерживать дружбу с Россией. Демагогическая монархия Вильгельма II обязана была поддерживать Австрию. Общественное мнение стало весомым фактором в определении германской внешней политики, и оно стало более воинственным, чем мнение прусских юнкеров. Общественное мнение (Германии) никогда бы уже не принесло в жертву германское влияние на Юге-Востоке Европы».
Германия стала видеть свои первостепенные интересы там, где прежде их не усматривала, — в Юго-Восточной Европе, в Австрии, на Ближнем Востоке. Еще совсем недавно Бисмарк отказывался от интенсивной колониальной политики и говорил, что «весь Ближний Восток не стоит костей одного померанского гренадера». Теперь такая политика стала пользоваться первостепенным приоритетом Берлина.
Мощная идеология, которой хватило, чтобы вести на смерть германский народ в двух мировых войнах, покоилась на идее необходимости добиться для германского элемента господства в Европе: «В штормах прошлого Германская империя претерпела отторжение от нее огромных территорий. Германия сегодня в географическом смысле — это только торс старых владений императоров. Большое число германских соотечественников оказалось инкорпорированным в другие государства или превратилось в независимую национальность, как голландцы, которые в свете своего языка и национальных обычаев не могут отрицать своего германского первородства. У Германии украли ее естественные границы; даже исток и устье наиболее характерного германского потока, прославленного германского Рейна, оказались за пределами германской территории. На восточных границах, там, где мощь современной германской империи росла в столетиях войн против славян, владения Германии ныне находятся под угрозой. Волны славянства все ожесточеннее бьются о берег германизма».
Автор этих слов — популярный в Германии Ф. Бернарди — не дает шансов для мирного сближения «обижаемого» в Европе германства с славянским Востоком и франко-британским Западом. Этой героикой «обиженности» прониклись миллионы немцев в полный ненависти и страха период 1914-1945 годов. В одну из самых печальных страниц мировой истории превратилось удивительное промышленное и научное развитие Германии в XIX и начале XX века. Это впечатляющее развитие породило не удовлетворение элиты германского народа, а сатанинскую гордость.
Германские идеологи и публицисты первых полутора десятилетий XX века стали наибольшее внимание уделять главной силе, противящейся германскому диктату на континенте, тому, что они все более определяли как колоссальную угрозу на Востоке — «славяне становятся огромной силой. Большие территории, которые прежде были под германским влиянием, ныне снова подчиняются славянской власти и кажутся навсегда потерянными нами. Нынешние русские балтийские провинции были прежде процветающими очагами германской культуры. Германские элементы в Австрии, нашей союзнице, находятся под жестокой угрозой славян; Германия сама открыта постоянному мирному вторжению славянских рабочих. Многие поляки прочно укоренились в сердце Вестфалии. Только слабые меры предпринимаются, чтобы остановить этот поток славянства. Но остановить его требуют не только обязательства перед нашими предками, но и интересы нашего самосохранения, интересы европейской цивилизации. До сих пор не ясно, сможем ли мы остановить этот поток мирными средствами. Возможно, вопрос германского или славянского превосходства будет решен мечом».
Поднимаясь на глобальный уровень, германские идеологи все более усматривали препятствие расширению своей колониальной сферы, господству на океанах в «владычице морей». Идеологи мирового могущества «признавали», что «Англия проделала большую работу цивилизации, особенно в материальной сфере. Но в будущем Британии придется смириться с независимостью Канады, Австралии и Южной Африки».
А России придется примириться с гегемонией Германии в Европе.
Покорится ли Россия? С точки зрения влиятельных германских наблюдателей, «политика выигрыша времени, проводимая Россией, может быть только временной. Требования могущественной империи неизбежно повлекут ее экспансию в направлении морей, будь то на Дальнем Востоке, где она надеется найти незамерзающие гавани, или на средиземноморском направлении, где полумесяц еще сверкает над куполом Святой Софии. После успешной войны Россия едва ли поколеблется захватить устье Вислы, о владении которым она давно мечтает, и тем самым значительно усилиться на Балтике. Доминирующее положение на Балканском полуострове, свободный выход в Средиземное море и сильные позиции на Балтике являются целями европейской политики России. Она рассматривает себя как ведущая держава славянской расы и многие годы поддерживает славянские элементы в Центральной Европе. Панславизм ведет энергичную работу».
Россию, по мнению немецких интерпретаторов, сдерживают лишь внутренние неурядицы. На Дальнем Востоке она встретит противоборство Японии и Китая, в Европе — Германии.
Катализатором ухудшения отношений Германии с соседями стала испытывающая большие внутренние трудности Австро-Венгрия. Так, дипломатическая победа Вены, установившей в 1908 году свой контроль над балканскими Боснией и Герцеговиной, вызвала в Петербурге, Париже и даже Лондоне понимание необходимости координации действий против меняющих карту Европы сил. Британский посол писал из Берлина своему правительству: «В Европе устанавливается гегемония центральных держав, а Англия будет изолирована... Наша Антанта, как я боюсь, ослабнет и, возможно, умрет, если в будущем мы не превратим ее в союз».
Это важнейший эпизод. Отныне англичане показывают свое опасение не только строительством германских дредноутов, но и общим курсом центральных держав на достижение преобладания в Европе.
Ожесточение охватывает отнюдь не только избранных идеологов. В 1912 году император Вильгельм II записывает: «Германские народы (Австрия, Германия) будут вести неминуемую войну против славян (русских) и их латинских (галльских) помощников, при этом англосаксы будут на стороне славян. Причины: жалкая зависть, боязнь обретаемого нами могущества».
На полях дипломатических донесений Вильгельм записывает строки, жалящие неприкрытой ненавистью: «Глава 2 Великого переселения народов закончена. Наступает Глава 3, в которой германские народы будут сражаться против русских и галлов. Никакая будущая конференция (напомним, что Николай II был инициатором первой международной конференции по разоружению в 1897 году). не сможет ослабить значение этого факта, ибо это не вопрос высокой политики, а вопрос выживания расы».
Германский генеральный штаб начинает выражать опасения в отношении ускорившегося после 1892 года экономического роста России. Его глава — фон Мольтке (сын соратника Бисмарка) утверждал, что после 1917 года мощь России окажется непреодолимой, она будет доминирующей силой в Европе и «он не знает, что с ней делать». Мольтке был убежден, что «европейская война разразится рано или поздно, и это будет война между тевтонами и славянами. Долгом всех государств является поддержка знамени германской духовной культуры в деле подготовки к этому конфликту. Нападение последует со стороны славян. Тем, кто видит приближение этой борьбы, очевидна необходимость концентрации всех сил».
Фрагмент из книги Вячеслава Шацилло «Первая мировая война 1914–1918. Факты. Документы»[5]:
Посол России в Берлине С. Свербеев — министру иностранных дел России С-Д. Сазонову, 19 июня / 2 июля 1914 г.
Депеша № 44
М. г Сергей Дмитриевич,
Возмутительное и гнусное убийство австро-венгерского престолонаследника и его супруги произвело здесь потрясающее впечатление и вызвало глубокое негодование против национальности, к которой принадлежат оба преступника.
Отмечая великосербские вожделения, а равно и «ненависть» как зарубежных, так и населяющих Австро-Венгрию сербов к двуединой монархии, германская печать возлагает, подобно и австрийской, ответственность за злодейское преступление это на всю сербскую нацию. В Белграде, говорят газеты, составлен был заговор против жизни эрцгерцога, там же заготовлены были бомбы, предназначавшиеся для покушения, и перед самым покушением преступники побывали в Белграде, где они, подразумевается, по всей вероятности, столковались со своими сообщниками.
Коснувшись в беседе моей с помощником статс-секретаря враждебного по отношению к Сербии направления германской печати, я не мог не обратить его внимания на то обстоятельство, что взводимые ею против сказанной страны обвинения лишены всякого основания… Поэтому следует надеяться, что австро-венгерское правительство не только не предпримет никаких репрессалий против Сербии и сербской народности в Боснии и Герцеговине, но и сумеет положить предел происходящим ныне в монархии антисербским враждебным демонстрациям, которые могли бы повести к крайне нежелательным последствиям.
Помощник статс-секретаря не мог со мною не согласиться и сказал, что сербскому правительству следовало бы со своей стороны оказать полное содействие к расследованию всего того, что могло бы способствовать выяснению подробностей сараевского злодеяния, и в случае, если бы слухи о том, что злодеяние это было действительно подготовлено в Сербии, подтвердились, подвергнуть виновных строгому наказанию.
Примите и пр, Свербеев (МОЭК С. 398–399.)
Австро-венгерский посол в Берлине Сегени — министру иностранных дел Австро-Венгрии Берхтолъду, 5 июля 1914 г.
Берлин
Собственноручное письмо императора Франца-Иосифа и приложенный меморандум я передал его величеству. Император читал в моем присутствии с величайшим вниманием оба документа. Сначала он меня заверил в том, что ожидает с нашей стороны серьезного выступления против Сербии.
По мнению императора Вильгельма, нельзя мешкать с этим выступлением.
Позиция России будет во всяком случае враждебной, но он к этому готовился в течение ряда лет, и если даже дело дойдет до войны между Австро-Венгрией и Россией, то можем не сомневаться в том, что Германия выполнит свой союзный долг и будет стоять на нашей стороне…
(МО 1870–1918, а 259.)
Романов Петр Валентинович — историк, писатель, публицист, автор двухтомника «Россия и Запад на качелях истории», книги «Преемники. От Ивана III до Дмитрия Медведева» и др. Автор-составитель «Белой книги» по Чечне. Автор ряда документальных фильмов по истории России. Член «Общества изучения истории отечественных спецслужб».
Примечания
[1] Г.П. Виллмотт. Первая мировая война. М.: Издательство «Ломоносовъ», 2010.
[2] Джон Киган. Первая мировая война. М.: «АСТ», 2004.
[3] Андрей Зайончковский. Первая мировая война. СПб: «Полигон», 2002.
[4] А.И. Уткин. Первая мировая война. М.: «Культурная революция», 2013.
[5] Вячеслав Шацилло. «Первая мировая война 1914–1918. Факты. Документы» М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2003.