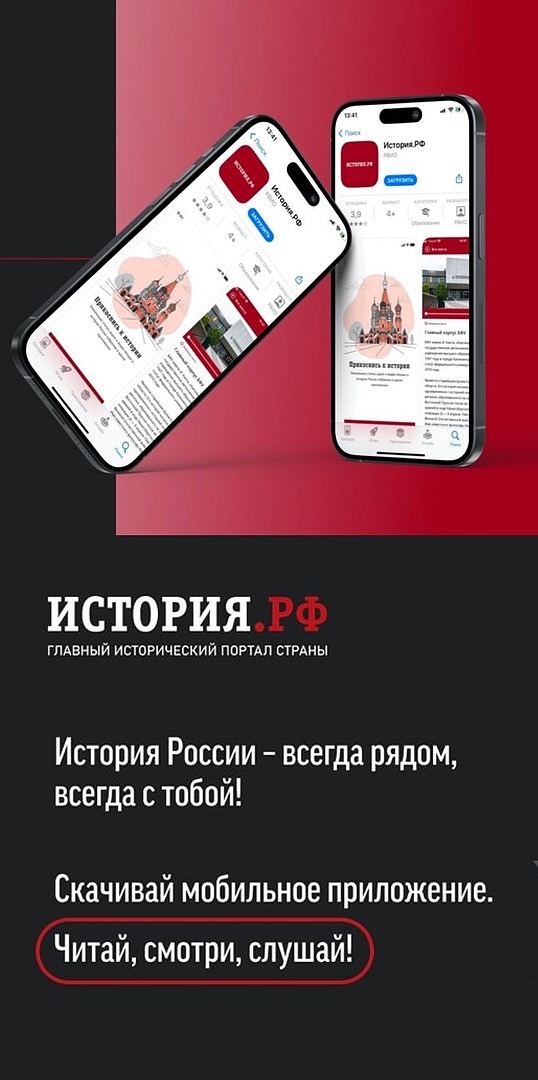Опубликовано:
Сенявская Е.С. Отношение к жизни и смерти участников Первой мировой войны: очерк фронтовой повседневности // Былые годы. Российский исторический журнал. 2012. № 3(25). С. 30-41.
Е.С. Сенявская
Отношение к жизни и смерти участников Первой мировой войны: очерк фронтовой повседневности
На войне существуют и тесно переплетаются опасность боя и повседневность быта, совокупность которых во всем многообразии типичных и уникальных проявлений можно определить как фронтовую повседневность. Изучение фронтовой повседневности во всем ее многообразии и противоречивости позволяет глубже понять «человеческий ракурс» новейшей военной истории, тот трудноуловимый субъективный фактор, который в экстремальных условиях войны мог неожиданно перевесить все факторы материальные и оказаться «последней каплей», склоняющей чашу весов в сторону побед или поражений.
Опыт каждого участника войны неповторим и индивидуален, но вместе с тем достаточно типичен в контексте своего времени. Поэтому так важно для современного историка проникнуть во внутренний мир соотечественников, с оружием в руках отстаивавших интересы своей страны, детально изучить сложное и многогранное «измерение» фронтовой повседневности. Это новое знание объективно-субъективной реальности, увиденной глазами человека, непосредственно соприкасающегося с врагом, пережитой им и воспроизведенной в синхронных и ретроспективных источниках, очень многое дает для понимания того состояния, в котором находилась страна, общество, государство, ведущие конкретную войну, и последствий этой войны для всего общества, его послевоенной жизни. И фронтовая повседневность Первой мировой яркое тому доказательство.
Первая мировая война буквально потрясла мировое общественное сознание, явилась психологическим стрессом для всей современной цивилизации, показав, что весь достигнутый людьми научный, технический, культурный и якобы нравственный прогресс не способен предотвратить мгновенное скатывание человечества к состоянию кровавого варварства и дикости. 1914 год открыл дорогу войнам новой эпохи, в которой проявилась «невиданная до тех пор массовая и изощренная жестокость и гекатомбы жертв» после «относительно благонравных» войн XVIII и XIX столетий, когда все еще сохраняли свою силу «традиции рыцарского благородства и воинского великодушия» ... «В кровавой бойне отныне были попраны все законы морали и нравственности, в том числе воинской. Людей травили газами, втихомолку подкравшись, топили суда и корабли из-под воды, топили и сами подводные лодки, а их экипажи, закупоренные в отсеках, живыми проваливались в морские бездны, людей убивали с воздуха и в воздухе, появились бронированные машины — танки, и тысячи людей были раздавлены их стальными гусеницами, словно люди эти и сами были не людьми, а гусеницами. Такого, да еще в массовом масштабе, не происходило в любых прежних войнах, даже самых истребительных»[1]. Такова была повседневная реальность тех, кто оказался непосредственным участником Первой мировой. Реальность, в которой люди жили и погибали.
Вот что увидел американский корреспондент Джон Рид, совершивший длительную поездку летом 1915 г. вдоль русского фронта: «…Мы встретили колонну солдат, маршировавшую по четыре человека в ряд — они отправлялись на фронт. Едва ли треть их была с винтовками. Шли они тяжелой, колеблющейся походкой обутых в сапоги крестьян, держа головы кверху и размахивая руками — бородатые, опечаленные гиганты с кирпично-красными руками и лицами, в грязных подпоясанных гимнастерках, скатанных шинелях через плечо, с саперными лопатами у поясов и громадными деревянными ложками за голенищем. Земля дрожала под их шагом. Ряд за рядом направлялись мужественные, печальные, равнодушные лица в сторону запада, к неведомым боям за непонятное дело…»[2].
Всем этим людям, надолго оторванным войной от родного дома, предстояло оказаться в новой для себя роли, в обстановке постоянного риска для собственной жизни, выполнять непривычную работу, связанную с необходимостью убивать.
Психологи знают, как мгновенно преображается человек, получивший в руки оружие: меняется все мироощущение, самооценка, отношение к окружающим. Война формирует особый тип личности, особый тип психологии – психологию комбатанта[3], то есть непосредственного участника боевых действий. Это психология человека в экстремальных обстоятельствах войны, которую можно рассматривать как непрерывную череду пограничных ситуаций, бытие на грани жизни и смерти. «Современный бой — это суровое испытание физических и духовных сил воина, его способности активно противостоять действию экстремальных, крайне неблагоприятных для жизни факторов, сохранять волю и решимость, до конца выполнить поставленную ему боевую задачу. Одновременно он представляет собой ожесточенную борьбу целей, мотивов, убеждений, настроений, воли, мыслей военнослужащих противоборствующих сторон»[4].
Жизнь человека на войне насыщена пограничными ситуациями, сменяющими друг друга и постепенно приобретающими значение постоянного фактора. И это свойство вооруженных конфликтов оказывает воздействие на всю жизнь общества в данный период, решительным образом влияет на психологию людей, особенно участников боевых действий. При этом для рядового и командного состава характерны особенности психологии, связанные с разной степенью ответственности и риска. Имеет свою специфику и восприятие действительности представителями разных родов войск и военных профессий. Она определяется конкретной обстановкой и задачей каждого бойца и командира в бою, наиболее вероятным для него видом опасности, характером физических и нервных нагрузок, способом контакта с противником — ближний или дальний, взаимодействием с техникой (видом оружия), особенностями военного быта. Однако главный элемент «психологии войны» является общим для всех: экстремальные условия обостряют до предела человеческие чувства, вызывают необходимость принятия немедленных решений, предельной четкости и слаженности действий, необходимых для того, чтобы выжить, равно как и для выполнения боевой задачи.
Бой предъявляет к человеку требования, противоречащие инстинкту самосохранения, побуждает его совершать действия вопреки естественным чувствам. Испытывая в боевой обстановке страх за свою жизнь, человек одновременно осознает, что должен преодолеть свою слабость, не выдать ее окружающим. Как утверждал полковник Г.Н. Чемоданов, командовавший в Первую мировую пехотным батальоном, «не существует ни храбрецов, ни трусов, а есть лишь люди, умеющие в большей или меньшей степени владеть своими нервами»[5]. Но даже оставаясь внешне спокойным, нельзя до конца избавиться от внутреннего трепета.
Для эффективного выполнения задач в бою необходима «защита» от страха. Во всех армиях мира применялось несколько основных способов его преодоления: 1) актуализация ценностей (напоминанием о долге и присяге, системой поощрений и награждений и т.п.); 2) вытеснение страха из сознания (с помощью боевых призывов, музыки, алкоголя и т.п.); 3) преодоление страха еще большим страхом (например, перед жестоким и позорным наказанием). Чем более ценностно-ориентированным, организованным и обученным был личный состав армии, тем выше был моральный дух войск, тем большее значение имели два первых способа, тем меньше была необходимость в «устрашении» и масштабы его использования.
В Первую мировую войну применялась традиционная система поощрения доблестных воинов боевыми наградами, но существенно шире стала пропаганда и популяризация их подвигов, в том числе в печатной продукции (газетах, брошюрах, фотографиях, открытках и т.д.). В условиях сильнейшего стресса, каким является бой, во всех армиях мира всегда использовались те или иные способы смягчения нервного напряжения перед лицом возможной насильственной смерти, в частности средствами религиозной пропаганды (в России и в ряде других стран существовал институт военных священнослужителей). Непосредственно в момент боя звучали призывы, лозунги и воодушевляющие крики, выполняющие одновременно ряд функций: вытеснения из сознания воинов чувства страха в минуту опасности, мобилизации решимости наступающих, обострения чувства общности воинского коллектива и устрашения противника. В русской армии таким боевым кличем издавна было «Ура». Вот как описывает момент штыковой атаки участник Первой мировой войны В. Арамилев: «Кто-то обезумевшим голосом громко и заливисто завопил: «У-рра-а-ааа!!!» И все, казалось, только этого и ждали. Разом все заорали, заглушая ружейную стрельбу... На параде «ура» звучит искусственно, в бою это же «ура» — дикий хаос звуков, звериный вопль. «Ура» — татарское слово. Это значит – бей! Его занесли к нам, вероятно, полчища Батыя. В этом истерическом вопле сливается и ненависть к «врагу», и боязнь расстаться с собственной жизнью. «Ура» при атаке так же необходимо, как хлороформ при сложной операции над телом человека.»[6]
Для борьбы со страхом и паникой военное руководство всех армий гораздо чаще, чем «увещевания» и «разъяснения», применяло жесткие репрессивные меры, исходя из принципа: «солдат должен бояться собственного начальства больше, чем врага». Так, отмечая случаи массовой сдачи в плен нижних чинов в Первую мировую войну, командование Русской Армии уже осенью 1914 г. издавало многочисленные приказы, в которых говорилось, что все добровольно сдавшиеся в плен по окончании войны будут преданы суду и расстреляны как «подлые трусы», «низкие тунеядцы», «безбожные изменники», «недостойные наши братья», «позорные сыны России», дошедшие до предательства родины, которых, «во славу той же родины надлежит уничтожать». Остальным же, «честным солдатам», приказывалось стрелять в спину убегающим с поля боя или пытающимся сдаться в плен: «Пусть твердо помнят, что испугаешься вражеской пули, получишь свою!» Особенно подчеркивалось, что о сдавшихся врагу будет немедленно сообщено по месту жительства, “чтобы знали родные о позорном их поступке, и чтобы выдача пособия семействам сдавшихся была бы немедленно прекращена»[7].Не всегда эти меры оказывались эффективными, иногда вызывая даже противоположный эффект. Так, в 1915 г. русские газеты сообщали, что команды турецких судов, покидая тонущие корабли, направляют шлюпки не в сторону близкого берега, а по направлению к русскому флоту, т.к. «тех турок, которые при потоплении нашим флотом вражеских судов избегают нашего плена, турецкое правительство приказывает казнить как изменников и предателей»[8]. К концу войны, поразившей усталостью и апатией значительную часть войск стран-участниц, эффективность всех средств психологического воздействия на личный состав резко снизилась.
Фронтовая повседневность войны включает и ее звуки, занимающие важное место в мировосприятии непосредственных участников боевых действий[9]. Артиллерийские залпы, взрывы снарядов, свист пуль — эти и другие «шумовые эффекты» средств уничтожения, символизирующие смерть, оказывали сильнейше влияние на психику людей, вызывали глубокое чувство страха. Вот как описывал свои впечатления от пребывания в окопах юго-западного фронта в конце 1914 г. Д. Оськин: «После затишья, продолжавшегося несколько дней, в первых числах ноября начались периодические и довольно сильные обстрелы наших позиций тяжелыми бризантными снарядами. Стрельба начиналась обычно часов в девять утра, и на протяжении какого-нибудь часа немцы выпускали не менее ста тяжелых снарядов. В полдень, когда прибывали кухни с пищей, стрельба возобновлялась и стихала для того, чтобы возникнуть снова часов в шесть вечера. Обстрел этот не наносил нам сколько-нибудь серьезных поражений, так как точности в стрельбе не было. Снаряды рвались в лесу. Насколько мощны были разрывы, можно судить по тому, что вековые деревья, толщиной в обхват и больше, валились от осколков снарядов, рвавшихся где-нибудь рядом. Самым неприятным и угнетающим в этом обстреле был звук полета снаряда: сначала слышишь отдельный выстрел, затем нечто похожее на хлюпанье большого поросенка; самый же взрыв настолько оглушителен и так сильно сотрясает землю, что в наших землянках и окопах нередко случались обвалы, и земля придавливала находящихся в них солдат»[10]. Для сравнения приведем его рассказ о боевой вылазке, где также основным впечатлением являются звуки войны: «Мы залегли в снегу. Трещали пулеметы, пули летели с трех сторон, справа, слева и навстречу. Пулеметные пули, самые страшные из всех видов огня — кажется, что только один свистящий звук их полета может изрешетить все тело; гораздо легче мириться даже с артиллерийским обстрелом»[11].
В. Арамилев так описывал звуковое сопровождение готовящегося наступления: «Завтра на рассвете идем в атаку. Сегодня с утра артиллерийская подготовка. Наши глухонемые батареи обрели дар слова и бойко тарахтят на все лады. Артиллерийская канонада действует на нервы убийственно. Но когда бухает своя артиллерия, на душе чуть-чуть легче. Солдаты шутят.
— Веселее сидеть в окопе, когда земля ходуном ходит от взрывов…
Немцы подозрительно молчаливы, точно вымерли. Когда противник молчит, в душе невольно нарастает тревога. Немцы, конечно, чувствуют, чем пахнет сегодня в воздухе.
…Перед наступлением в окопах глубокая тишина. Такая тишина бывает в тюрьме перед казнью осужденного, если об этом знают все остальные заключенные»[12].
Артиллерийский прапорщик Федор Степун 21 января 1915 г. писал матери: «Ты не можешь себе представить, какая громадная разница в переживании шрапнели и пули. Шрапнель — вещь вполне рыцарская. Устремляясь на тебя, она уже издали оповещает свистом о своем приближении, давая тем самым в твое распоряжение по крайней мере секунду, чтобы подготовиться и достойно встретить ее; да и ранит она тоже с благородной небрежностью, всего только одной или несколькими из своих двухсот пуль. В ней столько же фейерверочной праздности, сколько смертоносной действительности. Совсем не то ружейная пуля, вся энергия которой направлена на зло поранений и убийства. Она не слышна издали, когда она слышна, она уже не опасна: ее свист, ее разрыв — всегда жалоба на зря, без зла загубленную силу. Все это я пишу, конечно, так, приблизительно, но вот что я определенно чувствую: не дай Бог попасть под настоящий ружейный или пулеметный огонь»[13].
Часто под воздействием стрессовой обстановки люди просто сходили с ума. «...Острые впечатления или длительное пребывание в условиях интенсивной опасности, — отмечал русский военный психолог начала XX в. Р.К. Дрейлинг, — так прочно деформируют психику у некоторых бойцов, что их психическая сопротивляемость не выдерживает, и они становятся не бойцами, а пациентами психиатрических лечебных заведений...»[14]. При этом если средние потери в связи с психическими расстройствами в период русско-японской войны составили 2-3 случая на 1000 человек, то в Первую мировую войну показатель «психических боевых потерь» составлял уже 6-10 случаев на 1000 человек[15]. 20 декабря 1914 г. прапорщик Бакулин записал в своем дневнике: «Перед Рождеством доктор дивизионного обоза А.Н. Попов переведен в Варшаву в госпиталь, во вновь открытое психиатрическое отделение как специалист. Начальство психиатрических заболеваний не признавало, тоже как и другие болезни, не связанные с поражениями, для начальства это все симуляция, но теперь, на 5 месяце войны, пришлось начальству признаться в том, что сумасшедшие не симулируют и % психических больных повышается, что и заставило начальство признать и даже открыть несколько специальных психиатрических отделений при госпиталях»[16]. К середине войны количество душевнобольных достигло 50 тыс. чел., т.е. 0,5% в соотношении с общим числом призванных в армию[17].
Впрочем, все зависело от устойчивости психики конкретных людей, от способности их сознания приспособиться к экстремальной обстановке и включить «защитные механизмы». «На войне нет места неврастении, - писал военный врач Л. Войтоловский. — Человек подбирается, как зверь для прыжка, и каждая жилка в теле кричит ему: подтянись!..»[18] А вот что писал об этом 28 октября 1914 г. жене из Галиции Ф. Степун: «…Мы пошли дальше, пошли по неокончательно убранным полям сражения. Я знал уже накануне, что мы пойдем по ним, ждал страшного впечатления, боялся его и заранее подготовлялся ко всему предстоящему. И вот странно, вот чего я до сих пор не пойму: впечатление было, конечно, большое, но все же совершенно не столь большое, как я того ожидал. А картины были крайне тяжелые. Трупы лежали и слева и справа, лежали и наши и вражьи, лежали свежие и многодневные, цельные и изуродованные. Особенно тяжело было смотреть на волосы, проборы, ногти, руки… Кое-где из земли торчали недостаточно глубоко зарытые ноги. Тяжелые колеса моего орудия прошли как раз по таким торчащим из земли ногам. Один австриец был, очевидно, похоронен заживо, но похоронен не глубоко. Придя в сознание, он стал отрывать себя, успел высвободить голову и руки и так и умер с торчащими из травы руками и головой. Кое-кого наши батарейцы хоронили, подобрали также четырех брошенных на поле сражения раненых. Ну скажи же мне, ради Бога, разве это можно видеть и не сойти с ума? Оказывается, что можно, и можно не только не сойти с ума, можно гораздо больше, можно в тот же день есть, пить, спать и даже ничего не видеть во сне»[19].
Война неизбежно формирует иное, чем в мирное время, отношение к смерти, которая на фронте становится частью повседневного быта. Для тех, кто научился убивать, кто ежечасно видит гибель других и может погибнуть сам, человеческая жизнь обесценивается. Вид смерти уже не вызывает страха и отвращения, скорее, безразличие. Такое «притупление чувств» является защитной реакцией нервной системы в условиях постоянного стресса. Вот какое наблюдение по этому поводу делает Г.Н. Чемоданов: «Печальное поле проходили мы. Везде смерть в самых ужасных формах. Но нет отвращения, жути, нет чувства обычного уважения к смерти. Крышка гроба, выставленная в окне специального магазина, помнится, оставляла большее впечатление, чем этот ряд изуродованных, окровавленных трупов. Притупленные нервы отказывались совершенно реагировать на эту картину, и все существо было полно эгоистичной мыслью: «а ты жив»[20]. Ему вторит в своих письмах Ф. Степун. 14 октября 1914 г. он пишет матери о своем пути к фронту: «Вот уже шестой час стоим мы у австрийской границы и не можем переправиться ввиду заваленности дороги военным грузом. Следы войны здесь, как открытые раны. Сожженные постройки, опаленные кусты, разбитые бронзовые пушки австрийцев, поезда с ранеными, пленными, и на каждой станции страшные рассказы санитаров и врачей. Все эти впечатления я уже не воспринимаю, а умело топлю в своей душе, привязывая каждому к шее тяжелый груз моего упорного нежелания знать»[21]. 26 декабря, уже побывав в боях, он признается жене: «Особую, стыдную, но непобедимую радость в душе каждого из нас вызывало сознание, что убит за этот тяжелый день не он и не тот, кто был рядом с ним, а целый ряд других, ему совсем или почти незнакомых людей»[22].
Особое отношение формируется на фронте к необходимости убивать: «Кругом убийство и жажда убийства. Убийство по долгу, по присяге. Убийство только потому, что, если ты не убьешь, убьют тебя самого»[23]. Прапорщик М. Герасимов вспоминал свой первый поход за «языком» и связанные с этим чувства: «Пока мы шли до наших окопов под дождем, скрывавшим и глушившим звук наших шагов, я думал: вот только что мы убили двоих немцев, могли и сами быть убитыми, а никаких признаков угрызения совести, как этому полагалось бы быть, судя по прочитанным мной романам, нет; да не, пожалуй, и особого торжества от удачно выполненной задачи. Что я чувствую? Только усталость, как результат пережитого за эту ночь. Чего хочу? Отдохнуть и спать. Так все просто т до неприятного прозаично. Действительно, нет романтики в разведке, … а только тяжелая напряженная работа. Опасность и необходимость убивать каждый раз, когда участвуешь в поиске»[24]. При этом убийство воспринимается именно как работа. «Самое поражающее в войне то, что решительно никто никого не ненавидит, - писал 21 января 1915 г. Ф. Степун. — Я говорю, понятно, о постоянном настроении, а не о моментах остервенения в пехотных атаках и штыковой борьбе… Ненависть же к врагу реально чувствуется лишь в тылу…»[25]. И еще: «австрийцы в окопах для нас не люди, которых мы завтра можем увидеть в лицо, а некий безликий «он». Мы их не видим, потому не знаем; не знаем — не любим. А когда видим и знаем (раненых, пленных) — то любим»[26]. Это тоже защитный психологический механизм для солдата, волею судьбы принужденного «делать наиболее противное каждому человеку дело, а именно убивать людей»[27]. Впрочем, вопрос о ненависти к врагу не так прост. Отношение к нему на фронте складывалось, прежде всего, под влиянием личного опыта, и лишь затем — под воздействием пропаганды. И там, где появлялись серьезные причины для ненависти, возникала она сама. Один из героев романа участника Галицийской битвы С.Н. Сергеева-Ценского «Брусиловский прорыв», поначалу относившийся к австрийцам как к противнику вполне уважительно, стал называть их «вонючими» и «подлыми» после применения удушливых газов и почувствовал к врагу «личную озлобленность»[28].
На войне возникает проблема психологического привыкания не только к виду чужой, но и к мысли о возможности своей смерти, результатом чего становится притупление чувства самосохранения. Порою страх “притупляется” от чрезмерной усталости, истощения сил, моральной подавленности, когда человек становится безразличен к опасности. Такое состояние вызвано длительным пребыванием в экстремальных боевых условиях без отдыха, замены, отпусков. Неизвестный немецкий офицер писал в июле 1915 г. с французского фронта: «В глубокой землянке, где я сижу, темно и прохладно. Снаружи — пекло и ад. Дождь снарядов с той и с другой стороны. В нашей деревне не осталось целыми ни одной стены, ни одного забора. Французы уничтожают свои гнезда с удивительным стоицизмом. Дерутся, как львы. Атака сменяется атакой. Героизм здесь дошел до того кульминационного пункта, когда жизнь, за прекращением инстинкта самосохранения, становится противной. Сколько раз, сидя в моей черной яме, между двумя стальными линиями огнедышащих жерл, между двумя сферами адского грохота, свиста, стонов и проклятий, прижимая к уху телефонную трубку и отдавая короткие приказания, рождавшие этот грохот и эти стоны, — сколько раз я чувствовал, как сзади, с боков, сверху, отовсюду подкрадывается ко мне холодное, слизкое, хохочущее и гримасничающее помешательство... И тогда я горячо, всем сердцем жаждал смерти...»[29] «Нормальное» отношение к смерти возвращается к бывшим комбатантам, как правило, уже в мирной обстановке, после войны, но далеко не сразу.
Проблема усталости солдат от войны и последствия этой усталости отмечались многими современниками уже в 1914 г. Так, прапорщик Бакулин 22 ноября 1914 г. записал в своем дневнике: «Когда я сообщил людям, что мы отходим в резерв, все были рады. Невозможно людей так долго держать в окопах, это преступно. Начальство не хочет этого понять. Люди в окопах так устают физически и нравственно, так их заедает вошь, что нет ничего удивительного, что они, доведенные до отчаяния, сдаются в плен целым батальоном. Все это можно перечувствовать тогда, когда сам сидишь в окопе и испытаешь на себе, что это значит»[30].
Пожалуй, одной из самых характерных психологических черт, присущей комбатантам как особой категории людей и позволяющей им преодолевать чувство страха, является солдатский фатализм («Что кому на роду написано, то и будет».), который в первом же бою оформляется в мироощущение и становится базой для дальнейшего поведения. Проявляется он в двух прямо противоположных убеждениях: приверженцы первого считают, что судьба их хранит, и они не могут быть убиты; другие, напротив, уверены, что рано или поздно погибнут; и «только с одним из двух этих ощущений можно быть фронтовым солдатом»[31].
Первый тип ощущений ярко выражен в письме артиллерийского прапорщика А.Н. Жиглинского от 14.07.1916 г.: «Война — это совсем не то, что вы себе представляете с мамой, — пишет он с Западного фронта своей тете. — Снаряды, верно, летают, но не так уж густо, и не так-то уж много людей погибает. Война сейчас вовсе не ужас, да и вообще, — есть ли на свете ужасы? В конце концов, можно себе и из самых пустяков составить ужасное, — дико ужасное! Летит, например, снаряд. Если думать, как он тебя убьет, как ты будешь стонать, ползать, как будешь медленно уходить из жизни, — в самом деле становится страшно. Если же спокойно, умозрительно глядеть на вещи, то рассуждаешь так: он может убить, верно, но что же делать? — ведь страхом делу не поможешь, — чего же волноваться? Кипеть в собственном страхе, мучиться без мученья? Пока жив — дыши, наслаждайся, чем и как можешь, если только это тебе не противно. К чему отравлять жизнь страхом без пользы и без нужды, жизнь, такую короткую и такую непостоянную?.. Да потом, если думать: «тут смерть, да тут смерть», — так и совсем страшно будет. Смерть везде, и нигде от нее не спрячешься, ведь и в конце концов все мы должны умереть. И я сейчас думаю: «Я не умру, вот не умру, да и только, как тут не будь, что тут не делайся”, и не верю почти, что вообще умру, — я сейчас живу, я себя чувствую, – чего же мне думать о смерти!»[32]
Другой тип ощущений находим в воспоминаниях Г.Н. Чемоданова. Он описывает марш-бросок на передовую 22 декабря 1916 г. на Рижском участке Северного фронта: «Впереди, шагах в пятидесяти от меня, двигался первый батальон. В туманной лунной мути он казался какой-то общей массой, каким-то одним диковинным чудовищем, лениво ползущим в неведомую и невидимую даль. Шагах в десяти от меня такой же целой массой полз и дышал мой второй батальон. Ни привычного смеха, ни даже одиночных возгласов не было слышно в обеих группах. Все больше и больше охватывало чувство одиночества, несмотря на тысячи людей, среди которых я шел. Да и все они были одиноки в эти минуты, их не было на том месте, по которому стучали их ноги. Для них не было настоящего, а только далекое милое прошлое и неизбежное роковое смертельное близкое будущее.
Я хорошо знал эти минуты перед боем, когда при автоматической ходьбе у тебя нет возможности отвлечься, обмануть себя какой-нибудь, хотя бы ненужной работой, когда нервы еще не перегорели от ужасов непосредственно в лицо смотрящей смерти. Быстро циркулирующая кровь еще не затуманила мозги. А кажущаяся неизбежной смерть стоит все так же близко. Кто знал и видел бои, когда потери доходят до восьмидесяти процентов, у того не может быть даже искры надежды пережить грядущий бой. Все существо, весь здоровый организм протестует против насилия, против своего уничтожения»[33].Подобное «фаталистическое» мироощущение можно встретить почти у каждого участника Первой мировой войны, оставившего какие-либо письменные свидетельства (дневники, письма, воспоминания). Чаще всего оно выражалось словами: «Все в руках Божьих. От меня ничего не зависит. Будь что будет».
Иногда подобная «философия» принимала характер игры со смертью. Вот как описывал ситуацию, по духу напоминающую эпизод из лермонтовского «Фаталиста», Г.Н. Чемоданов. Дело происходило в полковой офицерской землянке за карточной игрой, ночью, за три часа до атаки:
«— Вот, если эту карту убьют — и меня завтра убьют, — заявил поручик Воронов с глубоким убеждением и верой в свои слова.
— Ну, и карты не дам, «фендра» этакая, — ответил ему Фирсов, державший банк: — ты мне заупокойной игры не устраивай. Смерть, голубчик, и жизнь в воле человека: захочешь жить, черт тебя убьет, я вот жить хочу, и за три войны только раз ранен, и завтра жив буду; а распусти нюни, сразу влопаешься...»[34]
Однако поручик все же загадал, связав свою жизнь с судьбой карты. И хотя она, к его радости, выиграла, сам он наутро погиб: «Карты его обманули». Примечательно другое: сам факт гадания «на жизнь и смерть», смягченный вариант «русской рулетки».
По воспоминаниям участников войны, некоторые их товарищи утверждали, что скоро погибнут, и это предчувствие всегда сбывалось, да и сами они часто могли различить на лице еще живого человека «печать смерти».
Тот же Г.Н. Чемоданов рассказывал, как перед боем один из офицеров, убежденный в своей неизбежной гибели, вручил ему письмо для передачи жене:
«— Давайте, — торопливо сказал я, так как обстоятельства не давали свободной минуты. — Впрочем, почтальона вы выбрали ненадежного, так как вероятность смерти висит и надо мной.
— Вы будете живы, — серьезно и пророчески сказал Розен, в упор глядя на меня.
Сознаюсь, теплая волна надежды колыхнула в груди от этих слов, от этой его уверенности».
Штаб-ротмистр Розен погиб в том же бою. А сам Чемоданов по ошибке несколько часов числился в списке убитых, и вот живой и невредимый вернулся в штабной блиндаж:
«— Долго жить будете, — с улыбкой утешил меня начальник дивизии: — примета верная»[35] …
И еще одна зарисовка, символизирующая отношение к смерти на войне, оставленная в воспоминаниях В.В.Вишневского, сбежавшего на фронт четырнадцатилетним мальчишкой: «Под снегом лежало солдатское кладбище (осени 1914 г.). Дожди размыли надписи на семиконечных крестах. Полки шли, заливаясь лихими песнями, мимо кладбища, мимо старых австрийских окопов и заграждений из ржавой колючей проволоки, разрушенных русскими солдатами осенью 1914 года. Было приказано петь при виде кладбищ, — «солдатам надлежит исполнять, а не рассуждать», — и полки послушно пели, и песнь торжественно стлалась по снежным равнинам:
Колонна за колонной Полями, лесом, вброд Могуче, неуклонно Гвардия идет…»[36]
Человек на фронте не только воевал — ни одно сражение не могло продолжаться бесконечно. Наступало затишье — и в эти часы он был занят работой, множеством больших и малых дел, выполнение которых входило в его обязанности и от которых во многом зависел его успех в новом бою. Солдатская служба включала в себя, прежде всего, тяжелый, изнурительный труд на грани человеческих сил. Поэтому наряду с опасностью боя важнейшим фактором войны, влиявшим на психологию ее участников, являлись особые условия фронтового быта, или уклада повседневной жизни в боевой обстановке. Русский военный психолог Р.К. Дрейлинг среди важнейших факторов, влияющих на психику бойца, называл «особые условия военного быта, вне привычных общественных и экономических отношений, тяжелый труд», отмечая при этом, что «труд, производимый, например, пехотинцем в полном вооружении и снаряжении, превосходит по количеству расходуемой энергии самые тяжелые формы не только профессионального, но и каторжного труда»[37].
Вл. Падучев описывал обычный день окопной войны на европейском театре военных действий, наполненный привычной рутинной работой вблизи неприятельских позиций: «Хорошо видно движение в наших окопах, как в пятой роте солдаты роют землянку и подкатывают тяжелые бревна, как пулеметчики набивают патронами ленту, а ротные телефонисты, как муравьи, тянут линию вдоль окопов... Утомленные сердитые лица, винтовки с примкнутыми штыками, сумки ручных гранат, остатки супа в медном котелке, зияющая черная воронка в колючей проволоке перед окопами, ротный фельдшер с красным крестом и двое раненых из нашего секрета — все это настоящее, будничное, покрытое серым цветом, но полное близкой тревоги ожиданий»[38].
2 сентября 1915 г. прапорщик М. Исаев[39] писал жене об особых нагрузках, выпавших на долю солдат, воюющих «в горном захолустье»: «Кавказский фронт – главный враг его не турки, и не курды, а природа. И когда покрутишь на этом фронте не одну сотню верст – поймешь, почему русский солдат прозвал его и «погибельным» и «проклятым». Сколько маеты должен он был перенести и от жары, и от холода – и от подъемов, и от спусков. Когда я смотрел, как втаскивали двуколки – то от этого зрелища мне буквально жарко стало, в пот бросило, не в переносном, а в настоящем смысле слова…» [40]
Разумеется, немалые особенности военного быта (в обеспечении жильем, питанием, денежным довольствием, в наличии особого круга внеслужебного общения и досуга) были связаны с принадлежностью к рядовому или командному составу, как и особые виды усталости, напряжения, опасности и страхов в боевой обстановке. Говоря о том, насколько сложнее психические условия деятельности командиров по сравнению с рядовыми бойцами, русский военный психолог Н.Н. Головин отмечает, что чем выше поднимаешься вверх по иерархической лестнице военного командования, тем сильнее уменьшается личная опасность и физическая усталость, но зато многократно увеличивается моральная ответственность, которая лежит на плечах начальника[41]. О том же свидетельствует в своей книге «Душа армии» генерал П.Н. Краснов: «Чувство страха рядового бойца отличается от чувства страха начальника, руководящего боем. И страх начальника, лично руководящего в непосредственной близости от неприятеля боем, отличается от страха начальника, издали, часто вне сферы физической опасности управляющего боем. Разная у них и усталость. Если солдат ... устает до полного изнеможения физически, то начальник, ... не испытывая такой физической усталости, устает морально от страшного напряжения внимания»[42].
У разных родов войск (пехоты, кавалерии, артиллерии, авиации, флота и др.) также существовала специфика как в условиях боевой деятельности, так и в деталях повседневного быта. «...Артиллерист, например, особенно тяжелой артиллерии, — отмечал вскоре после окончания Первой мировой войны А. Незнамов, — меньше подвергается утомлению, почти нормально питается и отдыхает, до него редко долетают пули винтовки, пулемета, но зато на него обращено особое внимание противника-артиллериста, и он должен спокойно переносить все, что связано с обстрелами и взрывами, часто очень сильными, фугасных снарядов. Он должен спокойно и точно работать (его машина много сложнее пехотного оружия), в самые критические периоды боя. От точности его работы зависит слишком многое, так как артиллерия очень сильно воздействует на течение боя»[43].
А вот не теоретическая оценка, но непосредственные личные впечатления и опыт участника Первой мировой «из окопа». Ф. Степун 21 января 1915 г. писал матери: «…Право же, все, что мы здесь переживаем, происходит гораздо проще, чем это кажется со стороны. Ужасное слово «бой» означает, слава Богу, для нас, артиллеристов, в большинстве случаев процесс совершенно спокойный, я бы сказал даже идиллический»[44]. В том же письме он пишет, что на днях его батарея уходит в резерв, и добавляет: «Грех сказать, чтобы … нам было очень тяжело. Тяжело было пехоте, которая каждую ночь мерзла на передовых постах, каждую ночь ходила, святая, в разведку, ходила по глубочайшему снегу в двадцатиградусный мороз, ходила во весь рост в атаку навстречу пулеметам и ружьям. А мы в эти ночи, засыпая, только прислушивались к пулеметной трескотне»[45].
14 июня 1916 г. другой артиллерийский офицер А.Н. Жиглинский также отмечал различную степень опасности для разных родов войск: «Не хочу хвастать, но мне уж не так страшно, как раньше, — да почти совсем не страшно. Если бы был в пехоте, — тоже, думаю, приучил бы себя к пехотным страхам, которых больше». И далее: «Единственное, что мог я уступить животному страху моей матери, — это то, что я пошел в артиллерию, а не в пехоту»[46]. Здесь ясно прослеживается специфика «страхов», риска и повседневного быта у профессиональных категорий на войне.
Прапорщик М.М. Исаев, командир пулеметной команды, 23 ноября 1915 г. писал жене с Кавказского фронта: «…Разговоры о наградах — любимейшая тема у пехоты и кавалерии. Артиллеристы и саперы гораздо меньше говорят о них, вообще у них уровень образования гораздо выше. «Довольных» в тысячу раз меньше, чем «недовольных». …Один «род» оружия ревнует к другому. …То, что пехоте предоставлены большие преимущества — имеет основания, главным образом, для западного фронта. Здесь, кавалерия сражается почти везде в пешем строю и рискует больше, чем пехота (разведки!) … Легче всего служба здесь в артиллерии — сторожевой не несут, все ночи спят, на работы (рытье окопов) не ходят… Только и знают, что бой (а бои довольно редко). От ружейного и пулеметного огня в полной безопасности. Да и вообще у них почти нет потерь»[47]. А 21 марта 1916 г. рассказывал в письме к детям: «У нас погода все еще не наладилась, по три дня идет дождь, потом несколько дней солнце. Только что высохнет — опять пойдет дождь целых три дня. Нам-то пулеметчикам хорошо, мы сидим дома, а вот бедным казакам надо каждый день в разведку ездить: дождь ли, снег ли, все равно седлай лошадь, одевай винтовку, шашку и кинжал, и поезжай в горы»[48].
Часто в боевой обстановке обычная бытовая проблема становилась вопросом жизни и смерти. «Воды из тыла привозят мало, — писал В. Арамилев. — Берем воду в междуокопной зоне, в ямках, вырытых в болоте. Но вот уже целую неделю это «водяное» болото держит под обстрелом неприятельский секрет. Он залег в небольшой сопке в полуверсте от наших окопов и не дает набрать ни одного ведра воды. За неделю у колодца убиты пять человек, ранены три. Командир полка отдал лаконичный приказ: «Секрет снять. В плен не брать ни одного. Всех на месте…» Ходили снимать… Операция прошла вполне удачно. Закололи без выстрела шесть человек. С нашей стороны потерь нет»[49]. 21 ноября 1914 г. прапорщик Бакулин записал: «Немцы как-то пронюхали, что около 9 часов вечера к нам подходят кухни, а также узнали, где кипятят воду землячки. Каждый вечер, около 9 часов начали посылать шрапнель, и однажды попали в кухню в тот момент, когда раздавали пищу, и ранили несколько человек, а двоих убили, даже черпак вышибло и перешибло шрапнелью в руках кашевара. Один снаряд угодил тоже в печь, где землячки кипятили воду, тоже ранило и убило несколько человек. Без чаю землячок жить не может, никакая шрапнель его не остановит, если он знает, что может вскипятить воду. Меня угощали своим чаем, чай похож вкусом на все, что угодно, но только не на чай, и сапогами отдает, и салом, но только не чаем. Но ничего, удовольствуются и этим. Пьют, да похваливают»[50].
Трагичнее всего было то, что в подавляющем большинстве солдаты не понимали целей и смысла этой войны, а следовательно — и своего в ней участия. Об этом, оглядываясь назад, генерал А.А. Брусилов писал в своих мемуарах. Сетуя на то, что техническое оснащение русских войск было значительно хуже, чем у противника, он отмечал: «Еще хуже была у нас подготовка умов народа к войне. Она была вполне отрицательная... Моральную подготовку народа к неизбежной европейской войне не то что упустили, а скорее не допустили». Далее он свидетельствует о полном непонимании народными массами причин и целей войны: «Даже после объявления войны прибывшие из внутренних областей России пополнения совершенно не понимали, какая это война свалилась им на голову, — как будто бы ни с того ни с сего. Сколько раз я спрашивал в окопах, из-за чего мы воюем, и всегда неизбежно получал ответ, что какой-то там эрц-герц-перц с женой были кем-то убиты, а потому австрияки хотели обидеть сербов. Но кто же такие сербы — не знал почти никто, что такое славяне — было также темно, а почему немцы из-за Сербии вздумали воевать — было совершенно неизвестно. Выходило, что людей вели на убой неизвестно из-за чего, то есть по капризу царя. Что же сказать про такое пренебрежение к русскому народу?!»[51]
И наконец А.А. Брусилов делал неутешительный вывод о причинах отсутствия в народных низах чувства патриотизма: «Можно ли было при такой моральной подготовке к войне ожидать подъема духа и вызвать сильный патриотизм в народных массах?! Чем был виноват наш простолюдин, что он не только ничего не слыхал о замыслах Германии, но и совсем не знал, что такая страна существует, зная лишь, что существуют немцы, которые обезьяну выдумали, и что зачастую сам губернатор — из этих умных и хитрых людей. Солдат не только не знал, что такое Германия и тем более Австрия, но он понятия не имел о своей матушке России. Он знал свой уезд и, пожалуй, губернию, знал, что есть Петербург и Москва, и на этом заканчивалось его знакомство со своим Отечеством. Откуда же было взяться тут патриотизму, сознательной любви к великой родине?!»[52]
Патриотическая пропаганда того времени, по признанию многих современников, была малоэффективна и почти не действовала собственно на солдат. Для основной крестьянской армейской массы война осталась во многом непонятной и чужой. О подобных настроениях пишет в своих записках сестра милосердия княгиня Лидия Васильчикова, которая заметила, что военные действия вдали от собственного дома совершенно не волновали крестьян. Они были равнодушны к тому, кто оказывался победителем, но лишь до тех пор, пока война не затянулась и не было нарушено обещание, что она закончится к Рождеству. С этого момента крестьяне стали видеть в войне бесполезную затею в интересах лишь союзников России, сводивших счеты с германцами. Сыновей крестьян призывали на фронт, лишая хозяйство рабочих рук, и безразличное отношение к войне вскоре сменилось антивоенным. В этом Васильчикова отчасти видит причину успеха большевистской пропаганды в 1917 г., призывавшей солдат дезертировать, бросать оружие и возвращаться домой[53].
Только за период с начала войны до 1 июня 1917 г. число мобилизованных в русскую армию достигло 15,8 млн чел., а общие боевые потери личного состава к 31 декабря 1917 г. составили свыше 7 млн чел., из них безвозвратные (убитыми, умершими от ран, отравленных газами и пропавшими без вести) — около 1 млн чел., не считая свыше 3,4 млн пленных[54].
Но несмотря на колоссальные жертвы, память о Первой мировой, потрясшей до основания все российское общество, называвшейся современниками Великой, Отечественной и Народной, была вытеснена последующими событиями революции и Гражданской войны, а затем куда более масштабной трагедией Второй мировой. Для русского сознания именно они объективно стали гораздо большим испытанием, заслонившим Первую мировую, в результате чего она оказалась на периферии общественного сознания и исторической памяти, оказалась поистине «забытой войной».
ПРИМЕЧАНИЯ
[1] Семанов С.Н. Предисловие // Первая мировая. (Воспоминания, репортажи, очерки, документы). М., 1989. С. 8.
[2] Рид Джон. Вдоль фронта // Первая мировая. (Воспоминания, репортажи, очерки, документы). М., 1989. С. 384.
[3] Комбатант (combattant) в переводе с французского означает воин, боец, сражающийся. Это термин международного права, обозначающий лиц, которые входят в состав регулярных вооруженных сил воюющих сторон и непосредственно участвуют в боевых действиях, а также тех, кто принадлежит к личному составу ополчений, добровольческих и партизанских отрядов, — при условии, что их возглавляет командир, что они имеют ясно видимый отличительный знак, открыто носят оружие и соблюдают законы и обычаи войны. См.: Советская военная энциклопедия. В 8-ми т. Т. 4. М., 1977. С. 261; Военная энциклопедия. В 8-ми т. Т. 4. С. 120.
[4] Военная психология: методология, теория, практика. М., 1996.
[5] Чемоданов Г.Н. Последние дни старой армии. М.-Л., 1926. С. 78.
[6] Арамилев В. В дыму войны // Первая мировая. (Воспоминания, репортажи, очерки, документы). М., 1989. С. 542.
[7] Лемке М. 250 дней в царской ставке // Первая мировая. С. 401-403. В 1916 г. в Петрограде была выпущена специальная пропагандистская брошюра П. Навоева «Что ожидает добровольно сдавшегося в плен солдата и его семью. Беседа с нижними чинами», где разъяснялись те репрессивные меры, которые будут применены к «предателям Веры, Царя и Отечества».
[8] Российский государственный военно-исторический архив (далее – РГВИА). Ф. 2019. Оп. 1. Д. 730. Л. 14 (об.)
[9] См.: Козлов С. Звуки войны (По материалам фронтовых свидетельств 1914-1918 гг.) // Военно-историческая антропология. Ежегодник, 2005/2006. Актуальные проблемы изучения. М., 2007. С. 171-196.
[10] Оськин Д. Записки солдата. // Первая мировая: Воспоминания, репортажи, очерки, документы. М., 1989. С. 481.
[11] Оськин Д. Записки солдата. С. 485.
[12] Арамилев В. Указ. соч. С. 540-541.
[13] Степун Ф.А. (Н. Лугин). Из писем прапорщика-артиллериста. Томск, 2000. С. 39.
[14] Дрейлинг Р. Военная психология как наука // Душа армии. Русская военная эмиграция о морально-психологических основах российской вооруженной силы. М., 1997. С. 161.
[15] Съедин С.И., Абдурахманов Р.А. Психологические последствия воздействия боевой обстановки. Учебное пособие. М., 1992. С. 6.
[16] Из дневников офицера русской армии Бакулина // Голоса истории. Материалы по истории первой мировой войны. Сб. научных трудов. Вып. 24. Кн. 3. М., 1999. С. 50.
[17] Асташов А.Б. Война как культурный шок: анализ психопатологического состояния Русской армии в Первую мировую войну // Военно-историческая антропология. Ежегодник, 2002. Предмет, задачи, перспективы развития. М., 2002. С. 269.
[18] Войтоловский Л. Всходил кровавый Марс: По следам войны. М., 1998. С. 209.
[19] Степун Ф.А. (Н. Лугин). Указ. соч. С. 13-14.
[20] Чемоданов Г.Н. Указ. соч. С. 63.
[21] Степун Ф.А. (Н. Лугин). Указ. соч. С. 9.
[22] Степун Ф.А. (Н. Лугин). Указ. соч. С. 29.
[23] Герасимов М.Н. Пробуждение // Первая мировая: Воспоминания, репортажи, очерки, документы. М., 1989. С. 563
[24] Герасимов М.Н. Указ. соч. С. 564.
[25] Степун Ф.А. (Н. Лугин). Указ. соч. С. 42.
[26] Степун Ф.А. (Н. Лугин). Указ. соч. С. 41.
[27] Степун Ф.А. (Н. Лугин). Указ. соч. С. 42.
[28] Сергеев-Ценский С.Н. Брусиловский прорыв // Первая мировая / Сост., предисл., вступит. статьи к документам и коммент. С.Н. Семанова. М., 1989. С. 139-140.
[29]РГВИА. Ф. 2019. Оп. 1. Д. 730. Л. 32.
[30]Из дневников офицера русской армии Бакулина. С. 49.
[31] Самойлов Д. Люди одного варианта. Из военных записок // Аврора. 1990. № 2. С. 50; № 1. С. 76.
[32] Центр документации «Народный Архив» (далее – ЦДНА). Ф. 118. Оп. 1. Ед. хр. 12. Л. 35-36.
[33] Чемоданов Г.Н. Указ. соч. С. 49.
[34] Чемоданов Г.Н. Указ. соч. С. 46.
[35] Чемоданов Г.Н. Указ. соч. С. 53-54, 63-64.
[36] Вишневский В.В. Война // Первая мировая: Воспоминания, репортажи, очерки, документы. М., 1989. С. 380.
[37] Дрейлинг Р. Указ. соч. С. 160.
[38] Падучев Вл. Записки нижнего чина// Первая мировая: Воспоминания, репортажи, очерки, документы. М., 1989. С. 534.
[39] Автор статьи выражает признательность доктору исторических наук, ведущему научному сотруднику Института российской истории РАН Сергею Алексеевичу Козлову, обнаружившему в Центральном архиве документальных коллекций г. Москвы комплекс писем участника Первой мировой войны М.М. Исаева и любезно предоставившего возможность использовать их в данной работе.
[40] Центральный архив документальных коллекций г. Москвы (далее – ЦАДКМ). Ф. 69. М.М. Исаев (1880-1950). Оп. 1. Д. 81. Л. 17-19(об.).
[41] Головин Н. Обширное поле военной психологии // Душа Армии. Русская военная эмиграция о морально-психологических основах российской вооруженной силы. М., 1997. С. 20.
[42] Краснов П. Душа армии. Очерки по военной психологии // Душа Армии. Русская военная эмиграция о морально-психологических основах российской вооруженной силы. М., 1997. С. 44.
[43] Цит. по: Изместьев П.И. Очерки по военной психологии. Некоторые основы тактики и военного воспитания. Пг., 1923. С. 94.
[44] Степун Ф.А. (Н. Лугин). Указ. соч. С. 39-41.
[45] Степун Ф.А. (Н. Лугин). Указ. соч. С. 42.
[46] ЦДНА. Ф. 118. Оп. 1. Ед. хр. 12. Л. 38.
[47] ЦАДКМ. Ф. 69. М.М. Исаев (1880-1950). Оп. 1. Д. 80. Л. 69-74 (об).
[48] ЦАДКМ. Ф. 69. М.М. Исаев (1880-1950). Оп. 1. Д. 87. Л. 10-11 (об).
[49] Арамилев В. Указ. соч. С. 538.
[50] Из дневников офицера русской армии Бакулина. С. 49.
[51] Брусилов А.А. Мои воспоминания. М., 1963. С. 81-82, 83.
[52] Там же. С. 83.
[53] Бовкун Е. Крушение старой России началось в августе 1914-го // Известия. 1994. 30 июля.
[54] Россия в мировой войне 1914-1918 года. (В цифрах). М., 1925. С. 17-20, 30-31.
Об авторе:
Елена Спартаковна Сенявская — доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института российской истории Российской академии наук, лауреат Государственной премии Российской Федерации.
Обложка: Плакат 1914 года. Российская империя изображена в образе поленицы, попирающей змея с двумя головами, символизирующими Германию и Австро-Венгрию.
Источник: https://ru.wikipedia.org