24 апреля 1671 года донские казаки взяли в плен руководителя одного из самых кровопролитных крестьянских восстаний в России
Семнадцатое столетие навсегда вошло в русскую историю как время тяжелых испытаний и кровопролитных войн, в том числе крестьянских. Одной из самых знаменитых и тяжелых среди них была крестьянская война Степана Разина. Начавшаяся как обыкновенный разбойничий поход, она вскоре переросла в открытое противостояние с боярами и воеводами: их Разин объявлял предателями и узурпаторами, а своих сторонников — свободными людьми без всяких ограничений в правах. Оттого и было столь велико разинское войско, оттого и поддерживали его практически везде, где появлялись разинцы. Но ровно до тех пор, пока они демонстрировали военные успехи. Когда же удача отвернулась от них, сохранившие верность царскому престолу донские казаки 24 апреля 1671 года в Кагальницком городке захватили Разина и выдали его московским воеводам.
Человек ниоткуда
Жизнь и смерть Степана Разина давно стали легендой, а во многом жизнь была ею с самого начала. Ни дата рождения, ни место рождения знаменитого донского атамана достоверно неизвестны. Год рождения Стеньки Разина — 1630-й — получен в результате вычислений, опирающихся на свидетельство нидерландского путешественника Яна Стрейса, по подсчетам которого в 1670 году атаману было 40 лет. А о том, где именно родился Разин, споры идут до сих пор. Однозначно можно утверждать только, что Степан Тимофеевич Разин появился на свет где-то на Дону, но конкретное место остается предметом разногласий историков. Одни поддерживают версию о том, что родился он в станице Зимовейской, другие – что в городке Черкасске, а народная молва называет и Кагальницкий городок, и Есаульский…
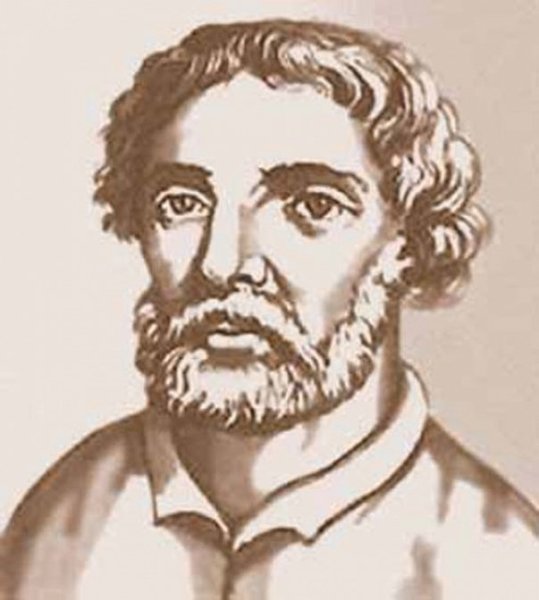
Командир «голутвенных» казаков
Истокам и причинам восстания Степана Разина посвящено множество исследований, но большинство из них сходятся в том, что непосредственным поводом для недовольства московской властью стала смерть старшего брата Ивана. Он был казнен по приказу воеводы Юрия Долгорукова в 1665 году за то, что вместо продолжения царской службы казаки решили вернуться на Дон. Во многом стремление казаков уйти из Москвы было связано с тем, что как раз в это время Московское царство начало укреплять не только внешнюю, но и внутреннюю политику, что быстро привело к конфликтам с привыкшими к вольностям обитателями Дона.

Было ли это заявление чистосердечным или то был точный расчет – сегодня уже не установить. Но лозунги известного атамана, должно быть, быстро привлекли на его сторону множество «голутвенных» казаков. Так называли тех обитателей Дона, кто недавно появился в этой «казацкой республике» и не успел, да и не слишком стремился осесть и обзавестись серьезным хозяйством, как «старые» казаки, и не хотел так же, как они, поставить свои воинские умения на службу московскому царю. Напротив, многие из «голутвенных» видели если не в самом царе, то в его приближенных главную причину всех своих неурядиц: многие были беглыми крестьянами из Центральной России. И потому совершенно не горели желанием вновь прирастать к земле или идти на московскую службу, а видели свое будущее в вольной казацкой жизни, под которой чаще всего понимали обыкновенный разбой, что, впрочем, было вполне легальным видом казацких занятий того времени.

Верные и не очень
Особенно большое число таких «голутвенных», а то и вовсе вчерашних холопов, появилось на Дону в 1666 году после того, как закончился неудачей поход на Москву донского атамана Василия Уса. Заявлявшие о намерении идти на службу московскому царю казаки по пути занялись разбоем, а когда против них двинулось регулярное стрелецкое войско, ушли обратно на Дон, уведя с собой многих крестьян и холопов. Именно они и составили существенную часть ватаги Стеньки Разина, когда тот в 1667 году отправился в свой знаменитый «поход за зипунами». Это мероприятие начиналось точно так же, как и большинство подобных казацких походов той эпохи, — как грабеж купцов, путешествовавших по Волге и Каспию. Но поскольку очень быстро разинцы фактически перерезали волжский путь, а потом доставили массу неприятностей Персии, это вызвало большой переполох в Москве. А после взятия Яицкого городка и морских сражений на Каспии превратился в пролог к восстанию.
Кстати, сам Василий Ус, понимая, что соперничать с авторитетом Разина ему не с руки, пошел на то, чтобы стать одним из ближних сподвижников: это открывало перед ним перспективы еще более заманчивые, чем во время неудавшегося похода на Москву. И Разин оценил эту преданность и эту предусмотрительность несмотря на то, что еще совсем недавно, уступая уговорам «старых» казаков, Ус и его «голутвенные» даже входили в войско белгородского воеводы, отправленного воевать с разинцами. Но в 1670 году атаман Ус со своими казаками присоединился к Разину и быстро стал одним из ближайших его помощников, командуя конными казаками. В благодарность вскоре, когда разинцы начали уже самую настоящую войну с Москвой и в качестве одного из первых шагов захватили Астрахань, именно Ус стал управителем города.

Дон важнее Разина
Получившего тяжелое ранение во время этой битвы Степана Разина в сопровождении верного казачьего конвоя отправили на Дон, в Кагальницкий городок, считавшийся одним из оплотов восставших. Но слепая вера в то, что на Дону все казаки заодно и «с Дона выдачи нет», проиграла точному политическому расчету. «Домовитые», то есть старые казаки хорошо понимали, что поджоги и грабежи, казни и пытки, которыми отмечали свой путь по России разинцы, безнаказанными не останутся и что в конечном счете войну ресурсов области Войска Донского у Москвы не выиграть. В этих условиях спасти себя и Дон от поголовной расправы они могли только одним способом — выдачей мятежного атамана. И решились пойти на это, понимая, чем и ради чего рискуют.

Степана Разина вместе с братом Фролом под казачьим конвоем доставили в Москву только 12 июня. Следствие по делу о его преступлениях было недолгим: во-первых, все было очевидно, а во-вторых, как свидетельствовали современники, несмотря на жестокие пытки, Разин хранил молчание. Так ни в чем и не сознавшегося Степана Тимофеевича вместе с братом казнили на Красной площади 16 (по н. ст.) июня 1671 года.







